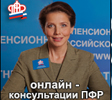На встречу с учениками Плосковской школы, приуроченную к юбилею Победы, бывшая учительница Инна Дмитриевна Рябинина принесла 50 граммов хлеба (его давали им, детям, на большой перемене в школе), 400 граммов хлеба (такое количество полагалось по продуктовой карточке в день) и похлебку (суп из воды и капусты или из воды и грибов, которым кормили в годы войны в школьной столовой), а также 200 граммов сахарного песка (именно столько они получали сладкого в месяц, да и то в конце войны).
«Мне было 9 лет, когда началась война, - рассказывает Инна Дмитриевна. - Мы жили в Грязовце. У родителей нас было пятеро: старшему 12, младшему - 4 месяца. Наш отец был заведующим льносемстанцией, которая располагалась у железнодорожного вокзала, а вечерами преподавал в техникуме механизации. Однажды он ушел на работу и унес с собой ключ от кладовой. Бабушка послала меня за ним с няней. Туда мы шли без приключений, а вот обратно!.. На железнодорожных путях стояли два состава: один с танками и пушками, другой - с эвакуированными людьми. Вдруг я услышала страшный гул. Обернувшись, увидела самолет, за которым тянулась черная лента. Тут полетела земля, люди выбегали из вагонов, кричали, а я стояла и смотрела, как они ложились на землю. Няня тянула меня за подол, мою панамку сбило с головы. Самолет быстро улетел, но успел сбросить бомбу на дом начальника станции Балашова. Он погиб. Когда мы шли домой по улице Пролетарской (теперь Обнорского), в домах не было стекол. Это был первый немецкий налет.
Воздушную тревогу объявляли по радио и ударяли в колокол на башне возле городского рынка. Налеты самолетов повторялись регулярно и всегда в одно и то же время: в 10 часов утра. Училась я в здании, где сейчас находится торговый центр «Июль». Нас всех на время налета отправляли в физкультурный зал. Только много позже до меня дошло: сбрось немцы бомбу, от нас ничего бы не осталось.
Отца призвали в декабре 1941, хотя у него была бронь (документ, освобождавший от отправки на фронт) до марта (у папы был врожденный порок сердца). Это было где-то под Новый год. Отец успел нарядить нам елку, которая ночью перед отправкой его на фронт почему-то упала. В тот день ушли на фронт 72 грязовчанина. Это была, в основном, вся Грязовецкая интеллигенция, среди них было много учителей, например, директор школы Николай Николаевич Кудряшов, будущий завроно Федор Иванович Шмаков, будущий директор техникума Владимир Федорович Берсенев. В этот день мы видели отца в последний раз. Хотя маме лейтенант в военкомате сказал, что папа к вечеру вернется домой, этого не произошло. От него пришло всего лишь одно письмо. В «Книге памяти» написано, что папа пропал без вести в марте 1941 года, а я очень хорошо помню, что в день моего рождения, 20 января, пришла мама и сказала: «Папы больше нет». Он погиб в первые дни. После войны моей бабушке грязовчанин, учитель Сироткин, рассказал о том, что после боя нашел человека, который нарвался на мину. Он был еще жив. Сироткин спросил солдата, откуда тот родом. Солдат ответил, что он агроном из Грязовца и сказал имя. Сироткин не мог сказать точно, но помнит, что имя и отчество были одинаковыми, а папу нашего звали Дмитрий Дмитриевич. Скорее всего, это был он.
Отца я хорошо помню. Он был очень веселый. Вечерами мы собирались вместе. Папа брал в руки гитару, мы забирались на него, и он пел. Любимой песней была «Степь да степь кругом»... Прошло столько лет, а мы до сих пор не знаем правды о нем. Как получилось, что, будучи на брони, папа попал на фронт? Для нас это до сих пор остается загадкой. Видимо, в документах нельзя было обнародовать этот факт, поэтому указали март 1941 года. Вот так мы и остались без отца. Пятеро нас, бабушка с дедушкой... Маминой учительской зарплаты едва хватало, чтобы не умереть с голоду. Но, несмотря ни на такие беды, мы, благодаря бабушке и маме (дедушка умер), все выжили, все получили хорошее образование и воспитание. Трудно было, но люди жили как-то дружно, старались поддерживать друг друга. Помню, у нашего дома (а жили мы на Карла Маркса, 31) было большое парадное крыльцо. В летние вечера женщины из соседних домов собирались на нем. Мама играла на гитаре, они плакали и смеялись. Мы, дети, тоже дружили. Старшие ребята занимались с нами: катали на санках, играли в войну. Через двор была протянута веревка, и мы деревянными ракетками играли в теннис.
Моя мама, Ольга Петровна Арсеньева в совершенстве знала немецкий язык, всю жизнь проработала учительницей. Бабушка - коренная москвичка, ее отец был известным московским адвокатом Плевако. Во время войны я видела самых настоящих немцев. Наша семья была знакома с пленными. В доме, где мы жили, военнопленные клали русскую печь, хотя понятия о ней не имели. В этом деле им помогала моя бабушка, хорошо владевшая немецким языком. Она-то и подсказывала немцам, где вьюшка, где заслонка печи. Вечером пленные приходили к нам. Один из них играл на аккордеоне, он был музыкантом. Второй - бывший учитель. Кем по профессии был третий, не помню. Ненависти к ним мы не чувствовали, а общались, как с обычными людьми. Мама играла на гитаре, домре, балалайке, поэтому, когда приходили в гости военнопленные, устраивались целые концерты. Как-то мы их спросили: «Почему вы против нас?» Ответ был таким: «Мы пошли не по своей воле. Что бы сделали с вашими мужьями, если бы они отказались идти на фронт?» У мамы были книги на немецком языке. Помню, что однотомник Шиллера и другую литературу мама им давала почитать. Когда пленные уезжали, книги они вернули. Каждая была обернута в несколько бумаг, без единой помарки!
Мой брат продолжил дело отца: стал докто-ром биологических наук, долгое время возглавлял научно-исследовательский институт в Ярославле. Сейчас ему 79 лет, до сих пор он еще работает в редакции одного из ярославских журналов».
Подготовила Е. Щучкина.